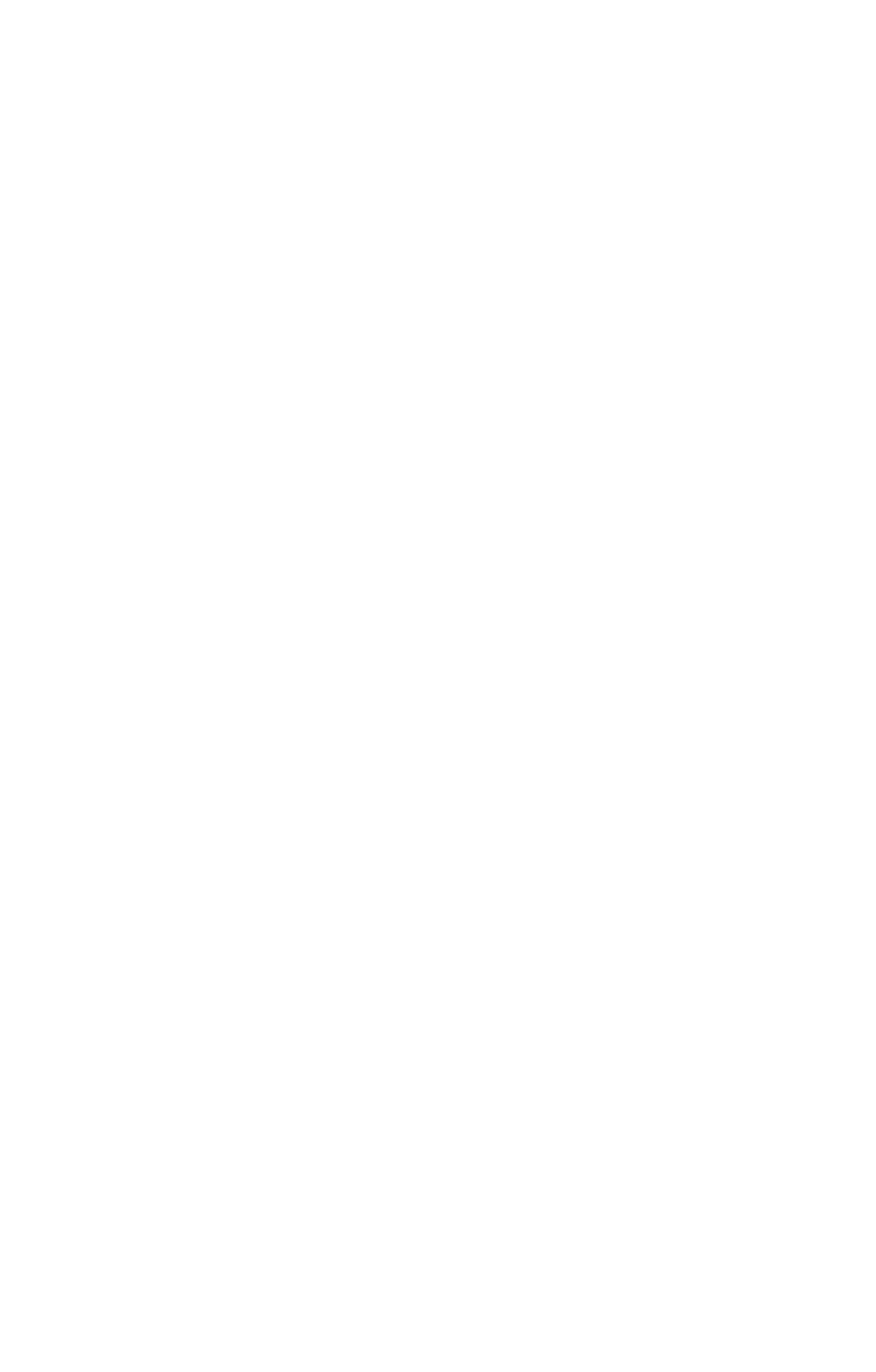03 октября, 2025
Марксизм умер, да здравствует Маркс!
Глава четвёртая
путешествия по библиотеке
путешествия по библиотеке
Символическим образом британский журнал Marxism Today прекратил свое существование в год окончательного развала СССР и мировой социалистической системы — в 1991-м. В то время казалось, что можно говорить лишь о «марксизме вчера», а не о «марксизме сегодня». По словам философа Лешека Колаковского, «этот череп уже никогда не улыбнется».
Под знаменем марксизма
Либеральные взгляды Егора Гайдара, казалось бы, полностью исключали интерес к марксизму. Но, во-первых, именно теории Маркса в области экономики и истории составляли основу образования, которое получало поколение Гайдара. Во-вторых, как кто-то заметил, «Капитал» оставался хотя и устаревшей, но единственной по-настоящему научной книгой во всем своде источников политэкономии социализма. «Капитал» был одновременно «Библией» «светской религии» и объектом интеллектуальных упражнений. Например, на изучении «Капитала» оттачивали свои научные представления философы — от Александра Зиновьева («Восхождение от абстрактного к конкретному (на материале „Капитала“ К. Маркса») до Эвальда Ильенкова («Диалектика абстрактного и конкретного в "Капитале» Маркса"). В-третьих, глубокое знание марксизма позволяло Гайдару вычленять в наследии Маркса выводы, которые не устарели или могли быть продуктивным образом переработаны и освоены, что нашло свое отражение в самом масштабном труде Егора Тимуровича — «Долгом времени». В пост-марксистское время единственная статья на русском языке с по-настоящему серьезным и непредвзятым анализом марксизма была написана Егором Гайдаром в соавторстве с Владимиром Мау — «Марксизм: между научной теорией и "светской религией"» («Вопросы экономики», 2004, № 5, 6).
Вдолбленный в головы нескольких поколений 11-й тезис о Фейербахе Карла Маркса — «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его" — заложил мину одновременно немедленного и замедленного действия под его теории. Марксизм, воспринятый и интерпретированный как учение и руководство к действию, дискредитировал себя многочисленными кровавыми диктатурами и крикливыми левацкими движениям. Марксизм как научная теория, скорее, относился к реалиям XIX века. Марксизм как метод оказался чрезмерно односторонним и не гибким.
Вдолбленный в головы нескольких поколений 11-й тезис о Фейербахе Карла Маркса — «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его" — заложил мину одновременно немедленного и замедленного действия под его теории. Марксизм, воспринятый и интерпретированный как учение и руководство к действию, дискредитировал себя многочисленными кровавыми диктатурами и крикливыми левацкими движениям. Марксизм как научная теория, скорее, относился к реалиям XIX века. Марксизм как метод оказался чрезмерно односторонним и не гибким.
Пост-марксизм, постструктурализм, пост-…
Чтобы очистить Маркса и от ортодоксии, и многочисленных «марксизмов» (во множественном числе), многие обращались к ранним его работам, к примеру, трактуя по-разному не устаревшее понятие «отчуждения». Богатейшая и противоречивая картина пост-марксизма, увлечение идеями Маркса и их опровержения стали значимой частью работ философов — от представителей Франкфуртской школы до экзистенциалистов, структуралистов и постструктуралистов. Сартр, Деррида, Лиотар, Фуко, Делез, Альтюссер… Многие из них состояли в компартиях и выходили из них. Журналы, в том числе с экзотическими названиями вроде «Социализм или варварство»…
Пост-марксизм рождался в отвержении марксистской практики и ортодоксии, прежде всего, советской, в виде марксизма-ленинизма сталинской традиции. Но иной раз запальчиво провозглашалось и возвращение к ортодоксии, и превознесение практического воплощения вульгарного марксизма, например, в маоизме.
Теоретики насыщали марксизм своими теориями, пытались вычленить в нем отжившее и использовать применимое к анализу современности, в частности, особенностей разных периодов развития капитализма. Отвергали классовую теорию, не принимали универсализм марксизма, отказывались от экономического детерминизма. Развивали наследие Антонио Грамши, его теорию «гегемонии», под которой он понимал не просто насильственное установление правил, но и инфильтрацию в общество господствующих представлений о власти и мире, то есть действие культурного фактора. Продолжение грамшианской интеллектуальной традиции стало, пожалуй, не менее значимым в европейском марксизме, чем сама Марксова доктрина. На практике это выразилось в еврокоммунизме, который так раздражал ЦК КПСС, в теоретической же сфере появились влиятельные имена и даже книги. Например, «Гегемония и социалистическая стратегия. К радикальной демократической политике» (Ernesto Laclau, Chantal Mouffe. Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics, 1985) аргентинца Эрнесто Лаклау и бельгийки Шанталь Муфф. Пост-марксизм пополнял марксизм анализом новых явлений — деколонизации, феминизма, сексуальной революции, «зеленой» повестки.
Попытки найти объяснения сегодняшним процессам — от социального неравенства и эффектов глобализации до миграционных волн и их восприятия в западных обществах — снова спровоцировали обращение к Марксу. «Капитал в XXI веке» и другие работы Тома Пиккети стали бестселлерами на книжном масс-маркете.
Пост-марксистская традиция развивалась и во многом была плодотворной в анализе современного капитализма. Но всякий раз капитализм выходил посвежевшим и обновленным из очередного кризиса. Возможно, необходимость объяснить причины сегодняшнего «поликризиса» снова спровоцирует возвращение к Марксу и пост-марксизму. Однако его практическое воплощение в западных радикальных левых движениях, иной раз склоняющихся к откровенному антисемитизм, или российских коммунистах, бубнящих одни и те же лозунги десятилетиями, выглядит не слишком привлекательно. Классическая же социал-демократия переживает кризис, на находя практических и теоретических ответов на вызовы новой реальности и проигрывая разного рода радикальным движениям, и особенно ультраправому популизму.
Теоретики насыщали марксизм своими теориями, пытались вычленить в нем отжившее и использовать применимое к анализу современности, в частности, особенностей разных периодов развития капитализма. Отвергали классовую теорию, не принимали универсализм марксизма, отказывались от экономического детерминизма. Развивали наследие Антонио Грамши, его теорию «гегемонии», под которой он понимал не просто насильственное установление правил, но и инфильтрацию в общество господствующих представлений о власти и мире, то есть действие культурного фактора. Продолжение грамшианской интеллектуальной традиции стало, пожалуй, не менее значимым в европейском марксизме, чем сама Марксова доктрина. На практике это выразилось в еврокоммунизме, который так раздражал ЦК КПСС, в теоретической же сфере появились влиятельные имена и даже книги. Например, «Гегемония и социалистическая стратегия. К радикальной демократической политике» (Ernesto Laclau, Chantal Mouffe. Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics, 1985) аргентинца Эрнесто Лаклау и бельгийки Шанталь Муфф. Пост-марксизм пополнял марксизм анализом новых явлений — деколонизации, феминизма, сексуальной революции, «зеленой» повестки.
Попытки найти объяснения сегодняшним процессам — от социального неравенства и эффектов глобализации до миграционных волн и их восприятия в западных обществах — снова спровоцировали обращение к Марксу. «Капитал в XXI веке» и другие работы Тома Пиккети стали бестселлерами на книжном масс-маркете.
Пост-марксистская традиция развивалась и во многом была плодотворной в анализе современного капитализма. Но всякий раз капитализм выходил посвежевшим и обновленным из очередного кризиса. Возможно, необходимость объяснить причины сегодняшнего «поликризиса» снова спровоцирует возвращение к Марксу и пост-марксизму. Однако его практическое воплощение в западных радикальных левых движениях, иной раз склоняющихся к откровенному антисемитизм, или российских коммунистах, бубнящих одни и те же лозунги десятилетиями, выглядит не слишком привлекательно. Классическая же социал-демократия переживает кризис, на находя практических и теоретических ответов на вызовы новой реальности и проигрывая разного рода радикальным движениям, и особенно ультраправому популизму.
Либеральная апология
«Марксистская» полка библиотеки Егора Гайдара отражает не только особенности его работы над «Долгим временем», «Гибелью империи» или фундаментальной статьей о марксизме для «Вопросов экономики», но и постоянный глубокий интерес к классическому марксизму и пост-марксизму. Здесь и ксероксы трудов Маркса, Троцкого, Ленина. И собственно издание «Капитала» Маркса 1973 года — то есть студенческих времен Гайдара с его же студенческими пометками. И работы Михаила Туган-Барановского. И статьи из научных журналов о марксизме. И, разумеется, книги, полные полемики пост-марксистов друг с другом и описанием приключений теории Маркса в XX веке и в современный период.
Упомянутая статья Гайдара и Мау имеет подзаголовок «Либеральная апология». Это не значит, что авторы оправдывали марксизм и тем более его практику, хотя и обращались с марксизмом нежнее, чем иные пост-марксисты. Авторы «Апологии», оценивая историческую ограниченность, но и прогностические возможности марксизма, указывали на его научную продуктивность и, странным образом, подтверждение многих положений либеральных доктрин. Что, в частности, стало предметом анализа в работе Майкла Э. Питерса с симптоматичным названием «Постструктурализм, марксизм и неолиберализм. Между теорией и политикой» (Michael A. Peters, Poststructuralism, Marxism, and Neoliberalism. Between Theory and Politics, 2001). Разумеется, во многих трудах, посвященных соотношению марксистского наследия и современности, неолиберальная реальность, часто приравниваемая к глобализации, как и марксизм, критикуется за универсальность и претензию на тотальность. К этой позиции теперь примыкают не теоретики, а практики — политики, ругающие глобализацию, неолиберализм, маркетизацию, и выступающие за альтернативные пути развития. Впрочем эти пути, как правило, ведут к авторитаризму разной степени жесткости.
В отличие от многих пост-марксистов Гайдар и Мау обращали внимание на значительную гибкость Маркса. В частности, «основоположник» в конце жизни стал скептически отзываться о «вечных, железных, великих законах». И кстати, иронически замечал, что сам он — не «марксист». «Дальнейшее научное развитие марксизма заставляло признать, что значительная часть исходных установок не соответствует долгосрочным трендам развития цивилизации. А „религия“ требовала решительной борьбы против попыток пересмотра не только логических конструкций, но и самой буквы нового "писания", — отмечали Гайдара и Мау, — Сам Маркс оказался в ловушке. Сложилась парадоксальная ситуация: марксизм стал заложником интеллектуальной мощи работ своего основоположника, его политического успеха».
Далее авторы статьи констатировали: «…подлинный и глубокий кризис марксизма как теоретической базы социализма и коммунизма наступил только с кризисом зрелого индустриального общества, с формированием новой технологической базы. Иными словами, сам кризис марксизма стал подтверждением правоты его историко-философской доктрины».
Марксизм подорвало само развитие капитализма и расширение его адаптивных возможностей: «По мере роста благосостояния подавляющая масса граждан страны становятся собственниками, заинтересованными не в переделе созданного продукта, а в обеспечении стабильных условий роста благосостояния». Эта простая истина стоит нескольких томов путаных мыслей постструктуралистов, выясняющих свои сложные отношения с Карлом Марксом. Говоря современным языком, социализм советского типа попал в «институциональную ловушку» и потерпел крушение. То же самое можно сформулировать в марксовых терминах — устаревавшие производственные отношения стали тормозить развитие производительных сил.
В отличие от многих пост-марксистов Гайдар и Мау обращали внимание на значительную гибкость Маркса. В частности, «основоположник» в конце жизни стал скептически отзываться о «вечных, железных, великих законах». И кстати, иронически замечал, что сам он — не «марксист». «Дальнейшее научное развитие марксизма заставляло признать, что значительная часть исходных установок не соответствует долгосрочным трендам развития цивилизации. А „религия“ требовала решительной борьбы против попыток пересмотра не только логических конструкций, но и самой буквы нового "писания", — отмечали Гайдара и Мау, — Сам Маркс оказался в ловушке. Сложилась парадоксальная ситуация: марксизм стал заложником интеллектуальной мощи работ своего основоположника, его политического успеха».
Далее авторы статьи констатировали: «…подлинный и глубокий кризис марксизма как теоретической базы социализма и коммунизма наступил только с кризисом зрелого индустриального общества, с формированием новой технологической базы. Иными словами, сам кризис марксизма стал подтверждением правоты его историко-философской доктрины».
Марксизм подорвало само развитие капитализма и расширение его адаптивных возможностей: «По мере роста благосостояния подавляющая масса граждан страны становятся собственниками, заинтересованными не в переделе созданного продукта, а в обеспечении стабильных условий роста благосостояния». Эта простая истина стоит нескольких томов путаных мыслей постструктуралистов, выясняющих свои сложные отношения с Карлом Марксом. Говоря современным языком, социализм советского типа попал в «институциональную ловушку» и потерпел крушение. То же самое можно сформулировать в марксовых терминах — устаревавшие производственные отношения стали тормозить развитие производительных сил.
Марксизм-XXI
Пост-марксизм упорно сводил счеты с Марксом, возвращался к Марксу, развивал Маркса, разбирался с самим собой. Пост-марксисты вступали друг с другом в жесткую полемику, погружаясь в совсем уж темные глубины философского колодца, из которого не видно, что происходит на свету. Некоторые авторы дописывались до фактического оправдания сталинизма, как американский философ Фредрик Джеймисон, чья статья опубликована в коллективном сборнике 1996 года «Marxism Beyond Marxism» (Edited by Saree Makdisi, Cesare Casarino, Rebecca Karl, 1996). Пост-марксизм переживал «вал исторических мутаций», отмечал британский исследователь Стюарт Сим в книге «Пост-марксизм. Интеллектуальная история» (Stuart Sim, Post-Marxism. An Intellectual History, 2000). Но, пожалуй, не смог произвести сколько-нибудь внятной доктрины, точнее, доктрин. Того марксизма, который объяснял бы мир, а не переделывал его в очередной раз. Или не питал сомнительными идеями ультралевых политиков вроде Жана-Люка Меланшона.
У западного марксизма не было обременяющего наследия в виде политических репрессий, и, как писал Сим, он еще имел возможность вернуться к молодому Марксу как к антидоту от сталинизма. Но отделаться констатациями (одну из которых провозгласил Луи Альтюссер еще в 1977 году) «Марксизм умер, да здравствует Маркс!» уже невозможно.
Но пока многочисленные «марксизмы», подробное и добросовестное описание которых содержится в книге аргентинского исследователя Рональдо Мунка «Marx @ 2000. Перспективы позднего марксизма» (Marx @ 2000. Late Marxist Perspectives, 2000), не слишком продуктивны в научном смысле. Как, впрочем, и в политическом. Одним избавлением от «экономизма» тут не обойтись, притом, что роль экономических факторов в происходящих в мире событиях, мягко говоря, не стоит недооценивать. Есть много проблем, нуждающихся в исследованиях — от кризиса мирового порядка и роли экологии до миграционных и гендерных факторов, не говоря уже о такой внезапно обретшей власть силе, как искусственных интеллект. В чем-то марксистские предсказания начинают снова реализовываться в новых обстоятельствах, во всяком случае тема неравенства (в самых разнообразных измерениях) остается актуальной, как и влияние новых технологий на социальные отношения. Но есть ли ответы — академические или политические — у современных марксизмов на эти вопросы? Пожалуй, что нет.
Но пока многочисленные «марксизмы», подробное и добросовестное описание которых содержится в книге аргентинского исследователя Рональдо Мунка «Marx @ 2000. Перспективы позднего марксизма» (Marx @ 2000. Late Marxist Perspectives, 2000), не слишком продуктивны в научном смысле. Как, впрочем, и в политическом. Одним избавлением от «экономизма» тут не обойтись, притом, что роль экономических факторов в происходящих в мире событиях, мягко говоря, не стоит недооценивать. Есть много проблем, нуждающихся в исследованиях — от кризиса мирового порядка и роли экологии до миграционных и гендерных факторов, не говоря уже о такой внезапно обретшей власть силе, как искусственных интеллект. В чем-то марксистские предсказания начинают снова реализовываться в новых обстоятельствах, во всяком случае тема неравенства (в самых разнообразных измерениях) остается актуальной, как и влияние новых технологий на социальные отношения. Но есть ли ответы — академические или политические — у современных марксизмов на эти вопросы? Пожалуй, что нет.